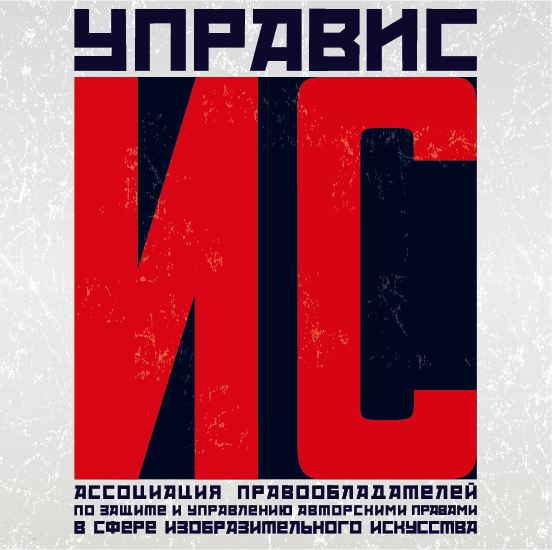
УПРАВИС
Любите искусство, уважайте автора!
Copyright © КОПИРАЙТ 2000-2025
Пользовательское соглашение
Художник Апанди Магомедов давно известен за пределами родного Дагестана. В Москве его работы сейчас показывают на фестивале-интенсиве «Алгоритмы познания» в Центре современного искусства AZ/ART. До 3 августа здесь можно увидеть его проект «Делегаты ландшафта». «Культуромания» побеседовала с художником, работающим в рамках современного искусства, но не забывающим о своих корнях.
— Любопытно, что куратор фестиваля Александр Дашевский показывает вас в компании петербургских художников — Елены Губановой и Ивана Говоркова, а также творческого объединения «Цветы Джонждоли».
— С Александром мы давно знакомы: в 2010-м встретились как художники на симпозиуме фестиваля «Аланика». А в прошлом году он уже в качестве куратора «Аланики» приезжал в Махачкалу. Я пригласил его к себе в мастерскую. Потом он позвонил и предложил участвовать в проекте ЦСИ AZ/ART. Я, конечно, был рад. Давно знаю Сашу как серьезного художника, а теперь вижу, что он прекрасный куратор.
— Дагестанское декоративно-прикладное искусство — ковры и кубачинское серебро — хорошо известны, и не только в России. В ваших работах ощущается влияние традиции, и в то же время у вас совершенно иной путь, вы – современный художник. Расскажите, как искали свой стиль, визуальный язык.
— Я окончил ковровое отделение в художественном училище в Махачкале, потом — Московский текстильный институт, отделение ткачества.
— У вас в семье кто-то занимался ткачеством?
— Нет. Но я прочел в книге «Оружие народов Северного Кавказа» о мастере по серебру по имени Апанди из села Могох. Это имя передается только по нашей линии — получается, это мой предок. У моего старшего брата были хорошие художественные задатки — жаль, что он их не развил. В период учебы я писал пейзажи и портреты, но меня они не очень трогали. После института по распределению попал в Московскую область, на Шелкоткацкую фабрику имени Свердлова, город Павловский Посад, где надо было отработать три года. Создавал рисунки и структуры для ткани, разбирался в тонкостях производства. Мои ткани потом продавались по всему Советскому Союзу.
Затем год проработал в Дагестанском музее изобразительных искусств в Махачкале — заведовал отделом ковров и тканей. Познакомился с уникальными коврами. Это оказало влияние на мое последующее творчество. Перепробовал почти все: живопись, графику, ткачество, роспись по ткани, ленд-арт, медиа-арт, арт-объекты. Сейчас занимаюсь вышивками. Материалом служит в основном мешковина, бязь, льняная, джутовая и конопляная нить. Во всех работах я пытаюсь найти свой почерк.
В конце 80-х я проводил опыты по восстановлению и крашению пряжи натуральными природными красителями. Собирал корни, листья, плоды растений и все это варил.
— В интерьерах сейчас часто встречаются дагестанские ковры — возникла новая волна интереса к ним.
— Это действительно так. Правда, иногда вижу, что при создании рисунка ковра комбинируют элементы из нескольких ковров. А ведь в прошлом узоры использовали не просто так: они всегда имели определенный смысл. Хороший специалист может «прочесть» ковер. В ковре все важно — и рисунок, и цвет. И если скомбинировать рисунки с разных ковров, получится хаос. Человек разбирающийся такой ковер никогда не купит. Лучше скопировать ковер один к одному — так будет грамотно.
— На выставке в ЦСИ AZ/ART вы показываете работы из разных проектов, в том числе — «Посвящение кизяку», над которым работали более 25 лет.
— В 1987 году я был вместе с Дагестанским музеем изобразительных искусств в экспедиции по Южному Дагестану. Помню свою удивление, когда увидел издалека старинное село Рича Агульского района. Было непонятно, где сакля, а где сооружения из кизяка. Идея проекта тлела в моей голове долго — как тлеет сам кизяк. Некоторые художники отнеслись к проекту с иронией. Мол, если ты художник — рисуй портреты и пейзажи. В 2002 году моя персональная выставка проходила в Дагестанском музее изобразительных искусств. Там был представлен проект «Посвящение кизяку». Я поместил кизяк в витрину, где обычно экспонируются серебряные украшения, и директор музея сказала, что если кто-нибудь это увидит, решит, что художник не дружит с головой. Впоследствии, когда издали альбом, посвященный проекту, отношение изменилось, стало более серьезным.
Полную версию интервью можно прочитать на портале «Культуромания»